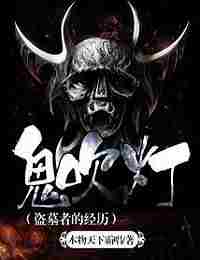
**Глава 19. Дикая балка Чёрного ветра**
Поезд отправлялся на следующий день в два часа дня, и мы, переполненные волнением, не спали всю ночь. Я спросил Толстяка, сколько у нас осталось денег. Он пересчитал и сказал, что осталось сто пятьдесят — этих денег хватило бы разве что на дорогу обратно и еду. Я подумал, что так не пойдёт: мы не были дома больше десятка лет, и являться к землякам с пустыми руками — это некрасиво. Надо раздобыть денег, чтобы купить подарки для односельчан.
Редактируется Читателями!
Толстяк предложил продать его нефрит за тысячу восемьсот. Я сказал ему: «Лучше оставь его себе. Хватит уже помнить о тех вещах, что отец тебе оставил. Продашь — не вернёшь, а потом будешь грызть себя от сожаления.»
В конце концов, я нашёл кое-что ценное: наших механических часов марки «Орлиная песня». Их подарил мне отец, когда я стал командиром взвода. Это была ограниченная серия, которую не каждый мог купить даже за деньги. На чёрном рынке в те времена они стоили более двухсот юаней. Я отнёс часы в Панцзяюань и продал их Да Цзинья, который покупал всё подряд. Услышав, что мы собираемся в Внутреннюю Монголию на раскопки, он ещё и спонсировал нас сотней юаней, договорившись, что найденные нами артефакты он поможет продать.
В восьмидесятых трёхсот юаней хватало обычной семье на два-три месяца роскошной жизни — это были весьма внушительные деньги. На них я купил множество съестного: цукаты, молочные конфеты, консервы, шоколад, чай — всё то, чего в горах не достать. Оставшиеся деньги я обменял на продовольственные талоны на чёрном рынке.
Дорога, занявшая два дня и две ночи, в предвкушении предстоящего казалась бесконечной. По прибытии на станцию нам ещё предстояло проехать день на тракторе, а затем пройти день и ночь горными тропами.
Когда мы зашли в горы, то не прошли и дня, как силы нас окончательно оставили. Ноша была слишком тяжёлой — каждый из нас нёс больше ста фунтов груза. Я стиснул зубы и продолжал идти, а вот Толстяк совсем выбился из сил. Он сел под большим деревом, тяжело дыша, и не мог вымолвить ни слова.
К счастью, нам встретился бухгалтер из деревни, который выехал по делам. Когда мы здесь работали, он был ещё подростком и всё время бегал за нами, называя нас «братьями». Увидев, сколько у нас багажа, бухгалтер быстро сбегал обратно в деревню и привёл нескольких человек с осликами, чтобы помочь нам. Среди них были и пожилые люди, которых мы помнили, и две девочки лет двенадцати-тринадцати, родившиеся уже после моего отъезда. Они называли меня «дядя», и это звучало так непривычно, что мне стало неловко.
Я спросил бухгалтера: «Почему в деревне не видно молодых мужчин?»
Счётовод ответил: «Все рабочие силы из нашей деревни ушли работать с археологической экспедицией. Разве вы не помните, что в семьдесят шестом году было Таншаньское землетрясение? Хотя оно и произошло за десятки тысяч ли от нас, но мы с ними на одной сейсмической зоне. Землетрясение раскололо гору Нюсиньшань в ущелье Ламагоу, обнажив огромную гробницу, похожую на дворец. Многие смельчаки из нашей деревни забрались туда и вынесли кучу ценных вещей. Но потом как-то так получилось, что это привлекло внимание властей, и приехала археологическая экспедиция. Они сказали, что это гробница великой Ляоской императрицы Сяо, и забрали все ценности у местных жителей, не оставив ни одной вещи. Потом археологи и на самой горе Нюсиньшань особо ничего не делали, но говорили, что под горой ещё много чего можно раскопать. Они наняли всех рабочих из деревни, кормят, поят и платят по три юаня в день. Вот уже несколько лет прошло, а работы всё нет конца, и многие до сих пор там трудятся.»
Услышав это, я с Толстяком чуть не лопнули от ярости. Вот это да! Нам бы с ними соревноваться, так даже Будда бы с трона свалился. Но ничего не поделаешь, не будешь же с археологами и чиновниками из управления культурным наследием спорить за территорию. Раз уж приехали, поживём здесь несколько дней, а потом поищем другое место. В конце концов, древние гробницы есть не только на горе Нюсиньшань.
Когда мы уже почти подъезжали к деревне, местные жители, узнав о нашем прибытии, высыпали на улицу встречать нас. Все окружили нас, задавая кучу вопросов. Ласточка, плача, вела за руку свою дочь и говорила нам: «Ай, старина Ху и Толстяк, как же мы по вам соскучились! Почему вы исчезли на столько лет и не давали о себе знать?» Отец Ласточки крепко обнял нас обоих: «Вы, двое маленьких забияк, ушли и пропали. Теперь не уедете, пока не поживёте здесь хотя бы пару лет.»
У меня с Толстяком на глазах выступили слёзы. Толстяк прожил здесь шесть-семь лет, я — всего год, но горные жители просты и сердечны: если ты хоть раз здесь поживёшь, они навсегда будут относиться к тебе как к родному. Здесь всё по-прежнему: нет ни электричества, ни дорог. Многие здесь никогда не видели электрической лампочки. Мне становилось всё грустнее, и я думал: когда у нас появятся деньги, обязательно построим для них дорогу. Но когда же мы разбогатеем?
В этот момент к нам, опираясь на чью-то руку, подошёл старый секретарь деревни. Ещё издалека он громко крикнул: «Дети председателя снова вернулись? Как там наш председатель? Как он поживает?»
Старый секретарь, похоже, не расслышал мой ответ и, напрягая голос, снова спросил: «Что? Товарищ Сяомин, чем он занимается?»
Ласточка шепнула мне: «Не обращай на него внимания. Не знаю, что с ним случилось, но в семьдесят третьем он оглох и почти ничего не слышит, да ещё и часто путается.»
Только тогда я понял, в чём дело. Подойдя ближе к секретарю, я громко сказал ему на ухо: «Товарищ секретарь, я принёс вам много вкусностей. Сейчас отнесу вам, кушайте на здоровье.»
Люди шли и разговаривали, и вскоре вошли в деревню. Старый председатель колхоза кричал им вслед: **»Ребята, возвращайтесь и доложите ему, что мы твёрдо поддерживаем… что решит, то и сделаем!»**
Вечером на широкой печи в доме Яньцзы был накрыт стол: жареные кусочки фазана, копчёные оленьи окорока, а в большом глиняном горшке посреди стола томилась белая свинина с кислой капустой и лапшой. Муж Яньцзы раньше часто бывал с нами, но сейчас он работал на горе Нюсиньшань и ещё не вернулся, так что увидеться с ним не удалось. Отец Яньцзы сидел с нами за столом, пили и беседовали. Я заговорил о древнем захоронении на горе Нюсиньшань и заодно спросил, есть ли в этих горах ещё могилы знатных людей.
С давних пор жители гор считают разграбление могил обычным промыслом — здесь нет никаких моральных сомнений. На севере так, а на юге, в Сянси, разбой и убийства — тоже своего рода подработка: днём крестьяне, ночью бандиты, прячущиеся в лесах и нападающие на проезжих купцов, не оставляя в живых никого. Такова суровая реальность, диктуемая условиями выживания: в горах живёшь за счёт гор, у воды — за счёт воды, а в бедных и суровых местах — за счёт древних могил или проезжих. Если где-то рядом есть древние захоронения, их обязательно рано или поздно раскопают. В этих отдалённых местах, где горы высоки и власть далеко, закон не имеет силы. Хотя с точки зрения закона это неоправданно, но в глухих лесах это считается нормой. Большинство местных могил настолько древние, что от них не осталось никаких видимых следов — иначе их давно бы уже разграбили.
Отец Яньцзы вспомнил, что ещё до освобождения в деревне было несколько молодых «любителей» — грабителей могил. Тогда ещё не знали о захоронениях на горе Нюсиньшань, но они отправились в одно легендарное место на поиски сокровищ и пропали без вести — среди них был и второй дядя Яньцзы. Отец Яньцзы знает примерное расположение того места, но сам никогда не решался туда пойти.
Вспоминая былое, старик закурил свою старую трубку «Ябули», несколько раз медленно затянулся, долго молчал, прежде чем сказать: **»Если вы ищете древние могилы, то, кроме горы Нюсиньшань, здесь их нет. По преданиям старожилов, если идти отсюда на север через гору Туаньшаньцзы, пять дней пути — и вы окажетесь у Чёрной ветряной расселины на границе с Монголией. Там есть ущелье Диких людей, где, по легендам, похоронены князья и знать династии Цзинь. Но то место безлюдно, там бродят дикари. Осмелитесь ли вы туда отправиться?»**
Я тоже слышал о Диком ущелье, но не знал, что там есть могилы. Что именно погубило тех грабителей, никто не знает — ни я, ни отец Яньцзы, ни кто-либо другой в деревне.
В глухих лесах и горах слишком много опасностей: дикие звери, резкие перемены погоды, природные катаклизмы — всё это может стоить жизни. А если попадешь в «дымовую ловушку», то даже бессмертному богу не выбраться.
Наше решение было непоколебимым, и отец Яньцзы не смог нас удержать. В деревне никто никогда не бывал в ущелье Диких Людей у Чёрного Ветра, знали лишь примерное его местоположение. Местность эта находилась почти на границе, и там не было никаких признаков жизни. Даже когда жители деревни ходили в горы на охоту или за лесными дарами, они никогда не забирались так далеко. К тому же отец Яньцзы уже был в годах, страдал от старческой хвори — «холодных ног», и не мог ходить в горы, а сама Яньцзы была на сносях со вторым ребёнком и не могла отправляться в дальние поездки. Все молодые и сильные мужчины из деревни работали в Ламагоу и в ближайшее время не вернутся.
Отец Яньцзы сказал: «Мне всё равно неспокойно, что я не могу сам проводить вас. На самом деле опасность в ущелье Диких Людей исходит не от самих дикарей, а от сложного рельефа. Зимой там начинаются метели, и легко можно заблудиться. Но сейчас ранняя осень, так что об этом можно не беспокоиться. Если вы всё же решили идти, обязательно берите с собой хороших собак и найдите опытного проводника. В последние годы в нашей деревне вырастили несколько тибетских мастифов — берите их всех с собой.»
Слово «ао» не означает исключительно тибетского мастифа. В северо-восточных регионах так называют любых крупных и свирепых собак, которые не совсем похожи на тибетских мастифов. Охотники и пастухи, живущие в северных степях и лесах, часто сталкиваются с угрозой со стороны волчьих стай и чёрных медведей, и обычные охотничьи собаки не всегда могут с ними справиться. Поэтому они переняли у тибетцев методы разведения мастифов и стали разводить своих собственных «ао». Говорят, что «девять собак — один мастиф», но это не означает, что из девяти собак одна станет мастифом. Для этого нужна чистокровная сука, которая родит за один раз девять щенков. Эти щенки с рождения запираются в подвале без еды и воды, и им приходится сражаться друг с другом. Выживший в этой борьбе единственный щенок и становится мастифом. Мастифы невероятно свирепы: трое таких собак могут разорвать на части взрослого медведя.
В деревне было три мастифа и пять лучших охотничьих собак, и все они были отданы нам. Отец Яньцзы также порекомендовал нам проводника — Инцзы. Инцзы было всего девятнадцать лет, но она была редкой представительницей народа эвенков. Среди молодых охотников деревни не было равных ей по мастерству. Она славилась как меткий стрелок, и, несмотря на юный возраст, с детства ходила с отцом на охоту в тайгу. В лесу не было ничего, чего бы она не знала. Два из трёх мастифов в деревне были выращены её собственными руками.
Перед отъездом я попросил Яньцзы помочь подготовить несколько вещей: клетку для птиц, клейкий рис, чёрные ослиные копыта, лом, большой бочонок уксуса и самогон. Когда всё было собрано, отец Яньцзы снова и снова напоминал нам, чтобы мы не рисковали, если не найдём то, что ищем, и поскорее вернулись. Он провожал нас до Туаньшаньцзы и только тогда вернулся обратно.
Я вполне уверен в своих способностях найти древнюю гробницу. Если доберусь до Дикой балки, то, даже если гробницы там не окажется, ничего страшного. Но если она всё-таки есть, я её обязательно найду. О грабеже гробниц я узнал частично из книг, но большую часть знаний получил от рассказов моего деда. Мой дед, Ху Гохуа, служил офицером в армии старой милитаристской клики. У него в подчинении были солдаты, которые раньше служили под началом Сунь Дяньина — знаменитого грабителя Восточных гробниц, и участвовали в многочисленных крупных акциях по разграблению гробниц. Их опыт был огромен, и дед многое узнал именно от них.
С древних времён грабёж гробниц делился на два типа: народный и официальный. Официальные грабители действовали открыто, вооружившись, и выбирали себе целью imperial усыпальницы. Предком официальных грабителей можно считать Сян Юя, гегемона Чу, который действовал в конце эпохи Цинь. Что касается «корпуса землекопов» и «золотых офицеров» времён Троецарствия, то они лишь систематизировали официальный грабёж, превратив его в конвейерное производство. Среди народных грабителей тоже были любители и профессионалы. Любители брали всё, что попадалось, а профессионалы целенаправленно искали гробницы знати и аристократов, не обращая внимания на мелкие захоронения.
Главное в грабеже гробниц — это найти её. Это целая наука. За тысячелетия смены династий в Китае традиции строительства и выбора мест для imperial усыпальниц менялись. В эпохи Цинь и Хань гробницы строили в виде перевёрнутой мерной чаши для зерна: насыпь имела форму перевёрнутого усечённого конуса с четырьмя чётко очерченными гранями, а на вершине располагалась небольшая квадратная площадка. Это напоминает египетские пирамиды, только у китайских на одну грань больше. Удивительно, но они поразительно похожи на пирамиды майя из «затерянной цивилизации», обнаруженные в Южной Америке. Связь между ними так и остаётся загадкой.
В эпоху Тан гробницы вырубались в горах, и это были грандиозные сооружения, отражающие мощь и величие империи. Танские imperial гробницы дышат духом «кто, если не мы?» — величайшей империи под небом.
С периода Южной Сун до конца Мин и начала Цин Китай пережил множество войн и крупнейшие природные катастрофы в своей истории. Ослабленная страна уже не могла позволить себе такие роскошные гробницы для знати.
В эпоху Цин, особенно в период правления Канси и Цяньлуна, экономика и производительные силы страны значительно восстановились. Архитектурный стиль гробниц изменился: больше внимания уделялось наземным постройкам, сочетая их с сакральными храмами и парками. Учитывая опыт предыдущих династий по защите от грабителей, подземные гробницы Цин стали исключительно прочными и труднодоступными.
В конечном счёте, независимо от эпохи, формы китайских гробниц за тысячелетия основывались на принципах «И цзин» — «Книги перемен» Фу Си, на концепции пяти элементов и фэншуй. Всё разнообразие сводится к одному: стремлению использовать все преимущества ландшафта, чтобы достичь гармонии между небом и человеком. Всё сводится к восьми словам: «В пределах творения — единство неба и человека».
Эта погребальная культура является сутью китайской цивилизации. Монголы, уйгуры, тибетцы, народы Цзиньчжи, усуни, сяньби, шэ, чжурчжени, тангуты и другие меньшинства испытали на себе её влияние. Их гробницы часто копировали формы, принятые в Центральной равнине, но в большинстве своём заимствовали лишь внешние черты. Можно сказать, что если понимать направление горных хребтов и великих рек, то даже самое скрытое древнее захоронение можно обнаружить без особого труда.
Впереди простирался бескрайний первобытный лес. Инцзы шла впереди с восемью огромными собаками, прокладывая путь. Толстяк вёл низкорослую лошадь, нагруженную палатками и прочим снаряжением, а я шёл сзади с ружьём. Так наша небольшая группа вошла в горные хребты на границе Монголии и Китая.
Толстяк, идя, спросил у Инцзы:
— Сестрица, что это за диковинные люди в Дикой балке? Кто они такие, ты их видела?
Инцзы обернулась и ответила:
— Я сама не знаю, что это за дикари. Отец говорил, что многие их видели в последние годы, но никто не ловил живых, и мёртвых тел тоже не находили. Те, кто видел, не могут толком описать, как они выглядят.
Я, идя сзади, рассмеялся:
— Толстяк, ты и впрямь невежда! Дикарь — это дикий человек. Надо учиться, брат. Знаешь, что такое дикий человек? Это тот, кто родился в дикой природе, возможно, вырос на дереве или прямо из земли пророс, но точно не создан руками человека.
Дикари — очень загадочные существа. Легенды о дикарях в Шэньнунцзя передаются издавна. Я ещё в армии слышал, что один солдат якобы застрелил дикаря, и его тело свалилось с обрыва. В итоге так и не выяснили, был ли это человек или просто большая обезьяна, покрытая шерстью. Почти все свидетели в один голос утверждают: дикари высокие, крепкие, и всё их тело покрыто длинной чёрной шерстью.
Инцзы рассказала нам, что Чёрная балка, которую теперь называют Дикой балкой, раньше носила другое имя — Балка Мёртвых. А ещё раньше, в древние времена, её называли Балкой, Поддерживающей Луну. Это место издавна служило кладбищем для знати империи Цзинь. Позже монгольская армия разгромила основные силы цзиньских войск у Чёрной балки, и трупы лежали горами. Монголы сбросили всех погибших в балку, и она почти полностью заполнилась. Местные стали называть это место Балкой Мёртвых. Позже, когда люди начали видеть здесь дикарей, слухи разнеслись, и Балка Мёртвых стала Дикой балкой.
Дикари не так уж страшны. Разве дикарь может быть сильнее тибетского мастифа? Мне вдруг пришла в голову мысль: сколько бы дикарь стоил на рынке? Но я тут же одёрнул себя: это негуманно, не стоит замышлять охоту на живых существ. Лучше сосредоточиться на поиске древних гробниц — вот что действительно важно.
Из-за лошадей мы не могли взбираться на слишком крутые склоны, и каждый раз, сталкиваясь с большой горой, нам приходилось обходить её. Путь наш был необычайно медленным, но осенний первобытный лес одаривал нас великолепными пейзажами. Листва, окрашенная в яркие оттенки красного и жёлтого, покрывала горы и долины, создавая невероятно красивую картину, от которой невозможно было оторвать взгляд. Иногда из чащи леса выбегали фазаны, зайцы, косули, белки или кабарги, и Инцзы сразу спускала на них своих собак. К вечеру, когда мы разбивали лагерь, мы собирали лесные грибы и ароматные травы, разводили костёр и готовили шашлык. Я и Толстяк наслаждались этими диковинными блюдами — за последние дни мы не ели одинаковую дичь ни разу.
В этих горах без охотничьих собак пришлось бы ночевать на деревьях. У нас же было три огромных тибетских мастифа и пять крупных гончих. С такой силой в лесу у нас почти не было соперников, разве что мы наткнулись бы на трёх или более гималайских медведей. Инцзы говорила, что мастифы — их злейшие враги: услышав лай мастифа, медведи сразу же убегали подальше. Поэтому по вечерам мы спокойно спали в палатках, а верные псы караулили вокруг, и нам нечего было опасаться. Эти собаки были куда надёжнее людей.
Характер у Инцзы был куда более взрывным, чем у Яньцзы в её молодости. Она была как перец чили — никому не давала спуску. Куда идти, что есть — всё решала она, и кто ей осмелится перечить, если она наш проводник? Даже собаки слушались её безоговорочно. Хотя я привык быть командиром взвода, здесь мне приходилось смириться с ролью рядового бойца.
Однако Инцзы действительно была мастером своего дела: охота, ориентирование на местности, поиск источников воды, определение ядовитых и съедобных грибов — всё это ей было под силу. Она знала, где в горах собирать грибы, орехи, дикие фрукты, лекарственные травы — словом, не было ничего, в чём она не разбиралась бы. Кроме того, она знала множество животных, о которых я и слыхом не слыхивал. Она могла рассказать, как они называются, в какой среде обитают, чем питаются и как их можно поймать живыми. Я и Толстяк только диву давались, слушая её, и могли сказать лишь одно: «Поразительно!»
Её народ, эвенки, — прирождённые охотники. Название «эвенки» — официальное обозначение этого народа, но оно не совсем точное. Иногда они называют себя «ороки» или «орочоны», что означает «люди, бродящие по лесам и горам в поисках оленей». Они годами странствовали по лесам Малого Хингана, ведя кочевой образ жизни, занимаясь охотой и рыболовством. Когда в Китае только установилась новая власть, эвенков оставалось меньше тысячи. Правительство помогло им выйти из суровых условий глухих лесов и перейти к оседлому образу жизни. Однако народ хранит почти священное почитание и тоску по жизни своих предков, полной охоты и свободы. Они верят в шаманизм, поклоняются природе и, несмотря на оседлость, всё равно регулярно возвращаются в горы на охоту.
Шесть или семь дней мы пробирались сквозь первобытный лес, не останавливаясь ни на минуту, двигаясь днём и ночью. Наконец, мы достигли Чёрного перевала на монгольско-китайской границе. Лес здесь был настолько густой, что казалось, нет ни единого свободного клочка земли, где можно было бы устоять. Повсюду росли морозоустойчивые породы деревьев: красные сосны, лиственницы, берёзы, тополя. Землю устилали слои гниющих веток и опавшей листвы, так что каждый шаг проваливался в эту вязкую массу. Людям ещё как-то удавалось передвигаться, но лошади, из-за своего веса, часто застревали, и нам приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы вытащить их. Мы буквально ползли вперёд, то толкая, то подтягивая друг друга.
Неизвестно, сколько лет пролежало всё это на дне леса. Гниющие ветки, погибшие звери — всё это источало невыносимое зловоние. Но странным образом этот смрад перемешивался с ароматом хвои и диких цветов, создавая странную, одурманивающую смесь. Сначала запах казался отвратительным, но со временем он начинал притягивать, словно вызывая зависимость.
Когда мы добрались до Чёрного перевала, дело оставалось за мной. Мы нашли горную долину, которая, по легендам, называлась Дикой долиной. На первый взгляд, здесь не было ничего необычного — не такая грозная, как ущелье Ламы, но это лишь первое впечатление. Инцзы предупредила, что в долине могут быть «большие топи», и нужно быть предельно осторожными, чтобы не увязнуть в них безвозвратно. Каждый должен был запастись длинной палкой, чтобы прощупывать путь: слой опавшей листвы здесь был глубже, чем на болоте. К счастью, сейчас не сезон дождей, иначе спуститься сюда было бы невозможно.
Дикая долина являлась частью отрогов Большого Хингана. Склоны гор здесь были пологими, а сама долина протянулась с севера на юг. С обеих сторон её обрамляли холмы. В центральной части солнце почти не проникало, создавая мрачную, тяжёлую атмосферу. Долина была заполнена гниющими листьями и сухой травой, лишь кое-где росли низкие кустарники. За её пределами деревья становились ещё реже, и первобытный лес сменялся бескрайними степями Внешней Монголии.
Был уже вечер. Кроваво-красное солнце висело над горизонтом. Мы поднялись на холм и огляделись. Солнце вот-вот должно было скрыться, а небо горело багрянцем, будто покрытое густыми мазками краски. Леса, укутывающие бесконечные горные хребты, и бескрайние степи на горизонте расплывались в дымке. Всё вокруг казалось застывшим в таинственном сумраке: горы как волны моря, а закат — как кровь.
Толстяк, восхищённый открывшимся видом, воскликнул:
— Старина Ху, какая красота! Не зря мы сюда пришли!
Но меня больше всего волновало другое — древние гробницы, скрытые в Дикой долине. Я внимательно изучил местность, сверяясь с трактатом «Шестнадцатизначное искусство фэншуй инь и ян», и достал компас, чтобы определить направления по восьми триграммам. Про себя я подумал: «Наконец-то мы нашли нужное место. Здесь обязательно должны быть гробницы знати.»
Дикая долина, которую раньше называли «Долиной, подносящей луну», обладала величественным и мощным рельефом, создавая ощущение всепоглощающей силы. С одной стороны она упиралась в степи, с другой — соединялась с Большим Хинганом. Бескрайние монгольские степи напоминали безбрежное море, а долина — могучую реку, впадающую в него.
Хотя фэншуй этого места ещё недостаточно величественен, чтобы похоронить императора, но для погребения князя, полководца или высокопоставленного генерала его более чем достаточно. Когда луна поднимется в зенит, её свет укажет нам направление к древней гробнице.
Время приближалось к вечеру, солнце медленно погружалось за горизонт на западе, и огромный лес вскоре должен был раствориться в тени. Это место когда-то называли «Лощиной, держащей луну», потому что, когда луна поднималась прямо над долиной, лежа на спине в самой её глубине и глядя вверх, создавалось зрительное впечатление, будто два самых высоких холма по бокам — это две гигантские руки, протянутые к лунному свету. Умершие, погребённые здесь, впитывали сущность солнца и луны, благоприятную энергию, о чём подробно говорится в главе «Небо» моей семейной книги по фэншуй. Некоторые места в тексте могут быть непонятны, но, сочетая их с наблюдениями на местности, можно с большой точностью разобраться в смысле.
Если бы в этой лощине не было такого толстого слоя сухих листьев и гниющей травы, можно было бы сразу найти центральную точку. Но сейчас придётся ждать, пока ночью взойдёт луна, чтобы по её положению на небе сориентироваться и спуститься в самую глубину долины в поисках гробницы. Главное, что у нас ограничены человеческие ресурсы, и во время работы нельзя допускать ошибок, иначе объём работ станет неподъёмным.
До полуночи было ещё далеко, и мы разбили лагерь под большим деревом на склоне, привязали пони к дереву, накормили его сеном, разожгли костёр, вскипятили воду и приготовили еду. Нашим ужином сегодня стало дикое мясо — маленький оленёнок, которого принесли охотничьи псы. Олень выглядел странно: на теле у него были пятна, как у лани, тело небольшое и непропорциональное, задние ноги необычайно толстые, большие уши без рогов — скорее всего, это была самка.
Увидев, как охотничьи псы притащили этого странного оленя, Инцзы быстро подбежала, перевернула тушу и осмотрела брюхо. На животе зверя были кровавые пятна. Инцзы разжала пасть оленя, как будто искала что-то, но так ничего и не нашла. Разозлившись, она пнула тушу несколько раз и ругнула собак: «Ленивые твари, только и умеете, что жрать! Ни на что не годны! Сегодня никто из вас не получит ужина!»
Толстяк, наблюдавший за ней сбоку, удивился и спросил: «Что ты ищешь, девчонка?»
Инцзы, вытаскивая острый нож, чтобы свежевать оленя, ответила: «Брат Толстяк, ты, наверное, никогда не видел таких животных. Это кабарга. У самки кабарги в пупке есть мускус — ох, как он дорого стоит! Но эти животные хитрые: как только почувствуют опасность, сразу откусывают себе пупок и пережёвывают его. Чёрт побери, эти собаки слишком медлительные! Если бы они поднажали, мы бы получили кусок мускуса.»
Толстяк, услышав это, прислонился к дереву, согнулся и начал с силой тыкать себя в живот.
Я хлопнул его по голове: «О чём ты думаешь, придурок? Ты что, считаешь себя оленем? Ты сам сможешь дотянуться ртом до своего пупка? Да и в твоём пупке одна грязь — ничего ценного.»
Толстяк вспылил:
— Врёшь всё! У меня спина чешется, я о дерево потёрся пару раз. Это ты сам хочешь пупок себе откусить!
Мы перебранились немного и разошлись по делам: я отправился собирать сухие ветки, а Толстяк помог Иньцзы жарить мясо. Нам хватило всего одной задней ноги кабарги, чтобы наесться, — её внутренности мы скормили пяти крупным охотничьим псам. У Иньцзы острый язык, но доброе сердце: только что говорила, что не даст собакам ужина, а теперь переживает, что им не хватит. Три огромных тибетских мастифа надменно присели поодаль, даже не глядя в сторону тех, кто дрался за кишки. Иньцзы отдала две передние ноги кабарги двум мастифам, а самую большую заднюю ногу — самому крупному из них, которого звали Тигр.
Мы втроём уселись у костра и принялись за жареное мясо. Иньцзы выдала каждому по ножу и маленькой солончаковой чашечке. Нога кабарги жарилась на огне, мы срезали по кусочку, макали в соль — и вот уже готово блюдо с насыщенным вкусом. Ужин прошёл быстро: я всё время думал о гробнице в овраге и даже не заметил разницы между мясом кабарги и обычным оленьим.
Когда мы закончили, луна уже поднялась высоко. По её свету было видно, как быстро несутся облака — к ночи обещал разыграться сильный ветер. Пора было двигаться. Оставив собак стеречь лагерь, мы втроём, вооружившись дубинками и ружьями, спустились в овраг Дикарей.
Каждый шаг вперёд мы проверяли, протыкая землю перед собой палкой — не попадётся ли «большой пузырь». К счастью, в овраге оказалось не так плохо, как мы опасались: хотя в некоторых местах листвы нагромадилось по колено, нигде не было «больших пузырей» — тех болот из перегнивших под дождём листьев. Значит, прежде чем раскапывать гробницу, придётся сначала убрать слой листвы, закрывающий вход в могилу.
Я поднял глаза на луну, достал компас, оглядел склоны долины и наконец определил точное место. В этой долине, возможно, много гробниц, но самая главная — гробница знатного аристократа — находится прямо под нашими ногами.
Я воткнул в землю палку, чтобы отметить место, и предложил вернуться в лагерь как следует выспаться. Завтра с утра, полные сил, мы начнём раскопки. В этих диких лесах на сотни километров вокруг нет ни души, незачем таиться и работать ночью.
По дороге обратно я рассказывал Толстяку о тонкостях грабежа гробниц. Если уж занимаешься этим делом, нужно знать его изнутри, а не просто тупо копать. С тех пор, как мы вошли в горы, я не переставал его просвещать.
В древнем Китае самое раннее задокументированное ограбление гробницы произошло примерно три тысячи лет назад, во времена династии Чжоу — эпохи Троецарствия и Пяти императоров, эпохи Ся, Шан и Чжоу. Династия Чжоу, о которой идёт речь, та самая, где, согласно легендам, феникс прокричал на горе Цишань, а Цзян Тайгун помогал основать государство. Эта династия просуществовала более восьмисот лет. В те времена было зафиксировано два крупных случая ограбления гробниц: ограбление могилы Чжоу Ю-вана и могилы Чэн Таня. В гробнице Ю-вана нашли два обнажённых тела молодых мужчины и женщины, настолько реалистичных, что грабители в ужасе бросились бежать. А в гробнице Тан-вана обнаружили огромный панцирь черепахи, покрытый надписями на костях.
Толстяк сказал:
— Лао Ху, хватит мне голову морочить ненужными подробностями! Скажи лучше, есть в гробнице привидения или нет? Если есть, как с ними бороться? И что это ты говорил прошлый раз про какого-то «духа, гасящего огонь»? Звучит жутковато.
Инцзы спросила:
— Какой ещё дух, гасящий огонь? Это что, про нашего северного «дымного пузыря» говоришь?
Я ответил:
— Нет, не тот, что у вас на севере. Это суеверие разграбщиков гробниц — «корпуса золотых пальцев». Хотя, если подумать, не всегда это бесполезно. В гробницах часто плохое качество воздуха, и если свеча не загорается, человек, войдя туда, точно отравится. С научной точки зрения это объяснимо. Да и каким образом в древних гробницах могут быть привидения? Это всё суеверия и легенды. Даже если они и есть, нам нечего бояться. Я уже приготовил чёрные подковы и клейкий рис для защиты от злых духов. В общем, если занимаешься разграблением гробниц, не верь в потусторонние силы. Если боишься призраков, не стоит этим заниматься.
Толстяк внезапно понял:
— Ах вот оно что! Оказывается, ты велел Яньцзы приготовить всё это для защиты от злых духов. А я-то думал, ты такой храбрый и ничего не боишься. Кстати, а уксус и птичья клетка зачем?
Я только собрался ответить, как вдруг с холма донеслось яростное лаянье охотничьих собак. У всех троих сердце ушло в пятки: неужто на наш лагерь напали какие-то дикари или звери? Хотя там были три огромных дога, и даже с медвежьим сердцем и барсовой желчью никто не посмел бы напасть. Что же так взбудоражило собак? Мы поспешили обратно на холм.
Вернувшись к палатке, перед нами предстала кровавая сцена: привязанная к дереву низкорослая лошадь была растерзана каким-то хищником. Её внутренности вывалились наружу, и она, ещё живая, корчилась на земле в предсмертных судорогах. Охотничьи псы окружили лошадь и лаяли на неё, как будто видели что-то ужасное. Их лай был полон тревоги и беспокойства.



