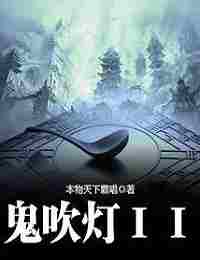
Глава 21. Запретная зона (часть 1)
Ласточка говорила, что мы с Толстяком — как навозные жуки, дрожащие от холода: едва прошло два дня относительного спокойствия, как нам снова пришла в голову бредовая идея — отправиться на луга Кэрэнцзоци. Однако наше решение было непреклонным, и, получив письмо, мы уже не могли усидеть на месте. К тому же, как говорится, «выбирать день не лучше, чем попасть на готовое», и как раз на следующее утро вниз по реке Чахаган, что протекала через лесопилку, должен был отправиться последний поезд с лесом. Если мы хотели выбраться из гор, то должны были успеть на этот состав.
Редактируется Читателями!
Так как мы отправлялись не по делу, а просто развлечься, то не решились просить отпуск у секретаря лично. Вместо этого мы поручили Ласточке уладить этот вопрос, пообещав привезти ей с лугов множество лакомств, которых она никогда не пробовала. У нас с Толстяком не было никакого багажа, который нужно было собирать — у нас попросту ничего не было, мы были настоящими пролетариями и холостяками. Нахлобучив собачьи шапки и перекинув через плечо потрёпанные армейские рюкзаки, мы выбежали из деревни и шли по горам всю ночь, чтобы к утру добраться до маленькой станции, откуда отправлялся лесовозный поезд.
Погрузка леса была закончена ещё прошлой ночью жителями деревни. Когда мы прибыли, поезд уже заводился, пыхтя и выпуская клубы белого пара. Улучив момент, когда смотритель станции отвернулся, мы с Толстяком забрались на последний вагон, притаились среди аккуратно уложенных брёвен и стали тихо ждать отправления.
По правилам, этот маленький поезд должен был перевозить только лес на большую станцию за горами, и никому не разрешалось тайком проезжать на нём. Если бы нас заметил смотритель до отправления, никакие оправдания не помогли бы — нас бы немедленно ссадили, а возможно, ещё и обвинили в использовании государственной собственности в личных целях, заставив писать объяснительную и выступать на собрании. Риск был немалый, и мы с Толстяком, как настоящие шпионы, затаились, боясь быть обнаруженными.
Несмотря на всю нашу осторожность, нас всё же заметили. Ещё пару дней назад, охотясь в горах на горностаев, я начал шмыгать носом. Местный фельдшер, которого за глаза прозвали «Панпяньцзы», был деревенским знахарем, лечившим и людей, и скот. Он выписал мне какие-то травы, но они не помогли, и в самый неподходящий момент я не выдержал и громко чихнул. Я поспешно прикрыл рот рукой, но было поздно — смотритель станции уже услышал.
Старик, услышав шум, увидел, что кто-то забрался на поезд, и сразу разъярился. Он насупился и бросился к нам, чтобы стащить нас с поезда. Но в этот момент поезд дёрнулся и медленно, с нарастающей скоростью тронулся. Деревья вдоль железной дороги начали отступать, и вскоре стало ясно, что смотрителю не догнать нас. Мы с Толстяком сразу перестали беспокоиться о последствиях, если нас заметят. Сняв шапки, мы с широкими улыбками помахали ими старому смотрителю и крикнули: «Прощай, Струледен…»
Наш маленький поезд, на котором мы ехали, никак не мог сравниться по скорости с обычным поездом, к тому же он трясся и подпрыгивал так сильно, что ноги будто теряли опору, а в ушах свистел ветер. Нас так мотало из стороны в сторону, что не оставалось сил наслаждаться видом древних лесов, где величественные деревья устремлялись в небо. Мы плотнее кутались в шинели и шапки, прячась от ветра за деревянными сиденьями. Даже в таких условиях было лучше, чем идти пешком через горы — этот путь был бы слишком долог и изнурителен.
После долгих мытарств, множества кружных дорог, о которых говорить не станем, мы с Толстяком наконец-то ступили на земли степи Кэрцин-Цзоци (Кэрцин-левое знамя). Если представить карту Китая в виде петуха, то эта обширная степь находится как раз на его загривке. Она является частью Хулунбуирской степи, подчиняется Хулунбуирскому аймаку и граничит с аймаком Синань. Здесь есть и лесные массивы, и пастбища, и сельскохозяйственные угодья.
Кэрцин-Цзоци пересечена высохшими руслами древних рек, что делает передвижение по этим местам крайне неудобным. Здесь мало людей, а земли — неоглядные. Сначала мы добрались до сельскохозяйственного пункта, где узнали у местных, где находится пастбище, на котором поселилась Дин Сытянь. Затем нам удалось поймать попутку — «лэлэчэ», местный транспорт, который используется в степи. Колёса этой повозки, сделанные из берёзы или вяза, огромные — больше метра в диаметре. Пастух, управляющий повозкой, кричал «лэ-лэ-лэ-лэ!», подгоняя скот.
Это был наш первый визит в монгольскую степь, и реальность сильно отличалась от наших представлений. Трава здесь не покрывала землю сплошным ковром, а росла редкими пучками на песчаных холмах, причём распределялась очень неравномерно. Каждый пучок был почти по колено высотой. Вблизи трава казалась редкой и длинной, но если посмотреть вдаль, бескрайние просторы превращались в бесконечное море желтовато-зелёных волн.
Мы слушали пронзительные песни монгольских пастухов, сидя на козлах повозки, которая подпрыгивала на каждой кочке. Холодный ветер осенней степи пронизывал до костей. Плывущие облака, дикая трава, ледяные порывы ветра, стаи гусей, улетающих вдаль с печальным криком — всё это создавало особую атмосферу. Местные пастухи говорили, что несколько дней назад здесь даже шёл снег, хотя он и не ложился на землю. По их словам, зима в этом году наступит рано, и, как и в горах, нужно заранее готовиться к суровым холодам.
Толстяк, никогда не бывавший на северо-востоке, удивлялся, почему снег здесь выпадает так рано. Он бормотал, что не понимает, почему климат ведёт себя так странно, и добавил, что если зима приходит рано, то, наверное, и весна не за горами. Я ответил ему: «Древние говорили, что на землях ху (северных кочевников) снег начинает падать уже в октябре. Похоже, мы действительно попали на земли ху…»
Мы сидели на повозке, лениво беседуя о бескрайних просторах и высоком небе, но разговор постепенно перешёл на нашу боевую подругу Дин Сытянь, с которой нам предстояло вскоре встретиться. Тогда, много лет назад, она заплела две тугие косы, надела военную фуражку и прямо в вагоне поезда танцевала «танец верности», а ещё учила пассажиров петь революционные песни. Её образ так поразил меня и Толстяка, что мы считали её невероятно красивой и талантливой, почти как богиню. Возможно, тогда уже в нас проснулось что-то похожее на первое юношеское увлечение, но в те времена об этом не принято было говорить вслух, да и сами мы, вероятно, не до конца осознавали свои чувства. Лишь спустя годы, оглядываясь назад, я понял, что, возможно, это и было оно.
Теперь, когда встреча была так близка, я чувствовал, как учащается сердцебиение. Сможем ли мы, близкие боевые товарищи, углубить нашу революционную дружбу? Может, я даже останусь здесь, в степи, и не вернусь в Большой Хинган? Я сразу же поделился своими мыслями с Толстяком и попросил его узнать у Дин Сытянь, какое место я занимаю в её сердце.
Толстяк тут же покачал головой:
— Слушай, старина Ху, давай не будем так нечистоплотны, а? Я как раз хотел попросить тебя узнать, что она обо мне думает. А ты, оказывается, хочешь, чтобы я первым пошёл за тебя!
Я подумал: «Неужели и у тебя, дружок, такие же коварные замыслы?» И сказал ему:
— Да как ты смеешь, Толстяк?! Как я к тебе отношусь обычно, а? Говори по совести! Как сказал товарищ Ленин: «Забыть прошлое — значит предать его!»
Толстяк, не моргнув глазом, ответил с наглостью, которая ему была свойственна:
— Ты ко мне, конечно, всегда хорошо относился, почти как к родному брату. Поэтому я и думаю… что в решающий момент ты обязательно подумаешь сначала обо мне, верно? Или, может, не так?
Мы спорили долго, но так и не пришли к согласию. В конце концов, решили пойти на компромисс: каждый из нас должен был спросить Дин Сытянь о другом, чтобы понять, у кого же больше шансов.



